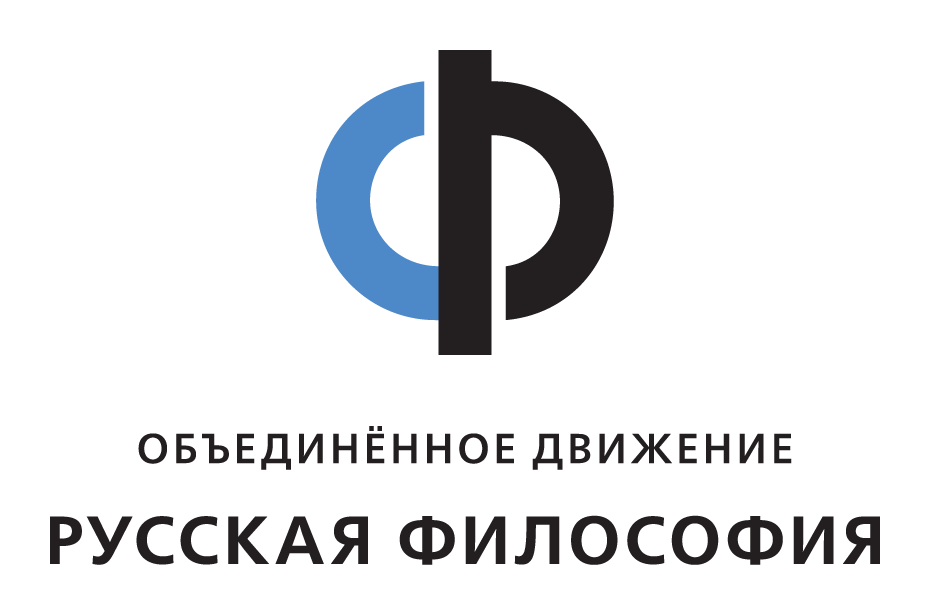В статье осуществляется анализ и систематизация представлений русских философов XIX – начала ХХ века об историческом предназначении России, т. е. смысла русской идеи в ее наиболее полном философском выражении. Доказывается, что, несмотря на видимое многообразие точек зрения, указанные представления складываются в достаточно ясную и цельную концепцию, в которой можно выделить три главных слагаемых: мысль о неизбежном кризисе и крахе западной либеральной цивилизации, представление об определяющей роли России в развитии грядущей постлиберальной цивилизации и убеждение в необходимости религиозного обновления России и человечества, связанного с заменой ложной церковной версии христианства на истинное (гностическое) христианство, основанное на принципе тождества Бога и человека. Показано, какое конкретное выражение эти идеи имели у самых известных русских мыслителей: П. Я. Чаадаева, В. Ф. Одоевского, А. И. Герцена, А. С. Хомякова, Ф. М. Достоевского, Б. Н. Чичерина, Л. Н. Толстого, В. С. Соловьева, С. Л. Франка, Н. А. Бердяева и др.
Наше время отмечено настойчивыми призывами выработать наконец русскую идею, точно так же как и сетованиями по поводу того, что мы никак не можем этого сделать. Это свидетельствует о том, что мы еще очень плохо знаем нашу национальную философскую традицию. Все самые известные русские мыслители размышляли над вопросом об историческом предназначении России и давали свои ответы на этот вопрос. Впервые развернутое мнение на эту тему сформулировал В. Ф. Одоевский в философском романе "Русские ночи" (1844); А. И. Герцен в философско-публицистической дилогии "С того берега" (1850), "О развитии революционных идей в России" (1851) дал выразительное пророчество об исторической судьбе Европы и России; эта же тема появляется во множестве работ основателей славянофильства А. С. Хомякова и И. В. Киреевского; Ф. М. Достоевский в письмах к друзьям ввел в употребление сам термин "русская идея" и подробно разрабатывал ее смысл в многочисленных фрагментах "Дневника писателя" и в художественных произведениях (особенно наглядно в романе "Подросток", через монологи Версилова, прообразом которого был Герцен). Большую роль в понимании религиозных оснований русской идеи сыграли поздние философские трактаты Л. Н. Толстого и сочинения В. С. Соловьева. В начале ХХ века вряд ли можно найти хотя бы одного из известных представителей религиозно-философского движения, который бы не высказался на эту тему и не внес свой вклад в разработку смысла русской идеи.
При поверхностном прочтении упомянутых сочинений может показаться, что в них выражены очень разные мнения по поводу исторической судьбы и исторического предназначения России. Именно из желания более ясно обозначить различие позиций по этому вопросу, в исследовательской литературе были "сконструированы" направления "западников" и "славянофилов", якобы резко противостоящие друг другу. Однако при внимательном прочтении главных сочинений русской философии можно прийти к выводу, что это противостояние очень сильно преувеличено. Размышления русских мыслителей на деле шли в одном направлении и сложились в достаточно последовательную, ясную и цельную концепцию; в ней "западник" Герцен дает примерно такое же пророчество о гибели Запада и первенствующей роли России в грядущей мировой цивилизации, как и "славянофилы" Хомяков и Киреевский или "почвенник" Достоевский. Вместо того чтобы заниматься выдумкой наивных собственных версий русской идеи, современным исследователям стоит просто внимательно прочитать сочинения своих великих предшественников и понять, что ими уже все было сказано, причем история очень хорошо подтвердила правоту русской философии в оценках будущего Запада и России.
В цельной и последовательной концепции русской философии, описывающей будущее человечества и историческую роль России, можно выделить три главных слагаемых. В первом выражено понимание исторической судьбы западной цивилизации: русские мыслители единодушны в понимании того, что она идет к окончательному краху и спорить можно только о том, когда он произойдет и под влиянием каких факторов. Второе слагаемое русской идеи связано с самым главным вопросом – вопросом об историческом предназначении России, оно описывается как весьма значимое для судеб мировой цивилизации: после окончательного кризиса и краха Запада именно Россия покажет всем единственно возможный путь к обновленной и уже вполне благополучной общественной модели; если все народы осознают ее безальтернативность и примут тот исторический путь, который обозначит Россия, то цивилизацию ждет вполне благополучное будущее. По поводу конкретных факторов, которые будут определять это благополучное развитие, русские мыслители имели разные точки зрения, за исключением одного, но самого важного фактора: все они считали, что человечество должно принять новое религиозное мировоззрение, которое обусловит новый этап его исторического развития, заканчивающийся преображением человека и общества к совершенному состоянию. Это составляет третье из важнейших слагаемых русской идеи: русские мыслители объясняли неотвратимый кризис, постигший западную и частично русскую цивилизацию, ложностью ее религиозных оснований. Религия должна показывать человеку бесконечность его духовной сущности и стимулировать его духовное развитие, а историческое христианство через идею неискоренимой греховности всех людей препятствовало этому развитию и тем самым лишало цивилизацию основания для движения в будущее. Большинство русских мыслителей оценивали историческое церковное христианство (во всех его трех конфессиях) как искаженную, ложную версию великого учения Иисуса Христа. Они предполагали, что грядущее обновление человечества и его выход на новый исторический путь должны быть сопряжены с восстановлением истинного христианства, истинного учения Иисуса Христа, главным принципом которого является единство и даже тождество Бога и человека. Бога нужно понимать не как "внешнее" и недоступное человеку существо, а как собственную глубинную сущность человека.
1
Непосредственным историческим началом радикального кризиса западной цивилизации, ведущего ее к гибели, русские мыслители считали эпоху Просвещения; именно здесь человек окончательно потерял осознание своей связи с Богом и попытался строить свою жизнь на основе своих собственных рациональных представлений. Это и привело к тому, что он перестал понимать себя, общество и цели своей личной и общественной жизни. В европейском сознании воцарились рационализм и практицизм, порожденные господством крайнего индивидуализма. Об этом впервые ясно написал Чаадаев; вопреки нелепому, но распространенному мнению он вовсе не рассматривает западное либеральное общество, оформившееся в начале XIX века, как идеал цивилизации. Критикуя Россию в первом из "Философических писем", Чаадаев восхищается Европой великих культурных традиций, расцвет которой пришелся на позднее Средневековье (эпоху Возрождения). Осуществляя философский анализ истории европейской цивилизации, Чаадаев хорошо видит возобладавшую в XVIII веке тенденцию к "атомизации" общества, которая получила крайнюю форму выражения в идеологии либерализма, но эту тенденцию он оценивает сугубо отрицательно. Для него сама суть бытия человека заключается в единстве со всеми другими людьми и с обществом, которое как неразрывное духовное целое абсолютно первично по отношению к отдельным личностям. В этом Чаадаев является верным наследником немецкого идеализма (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель), осуществившего резкую критику философии Просвещения.
Одоевский в книге "Русские ночи" (1844) впервые провозглашает тезис "Запад гибнет!" [8, с. 147], хотя в 1840-е годы, когда была завершена эта книга, кризис западной цивилизации еще не был так очевиден, как в ХХ веке и в наши дни. Но философы лучше других видят, куда движется общество и что его ждет в будущем. Хотя Одоевский признавал ценность человеческой свободы и индивидуальности, он продолжил критику западного индивидуализма и построенной на его основе либеральной цивилизации. Одоевский был последователем Шеллинга, вслед за ним он полагал, что все человеческие личности являются частными формами единого абсолютного духа и задача каждого – раскрыть в себе этот дух с максимальной полнотой и творческой энергией. Это совсем иная цель по сравнению с теми, которые провозглашает либеральная идеология. Либеральное "минимальное" государство должно иметь в качестве целей охрану индивидуальной свободы и увеличение материального богатства граждан, а вовсе не их духовное развитие.
Одоевский не только философски обосновал крах Запада, он предполагал художественно изобразить его в фантастической повести "4338-й год" (1835), которая осталась в виде фрагментов и набросков. Человеческая цивилизация в пятом тысячелетии будет включать, согласно пророчеству Одоевского, только два великих государства – Россию и Китай. От западных государств в изображаемом далеком будущем остались только Америка и Англия. Про американцев сказано, что их общество "одичало" до такой степени, что они для выживания "продают свои города с публичного торгу" [9, с. 422] и совершают грабительские набеги на соседние страны. Англия, вероятно, тоже должна была быть представлена в повести в весьма бедственном состоянии, в одном фрагменте читаем: "Англичане продают свои острова с публичного торга, Россия покупает" [9, с. 448]. В другом фрагменте один из персонажей с удивлением читает в историческом сочинении, что в далеком прошлом "Россия была только частию мира, а не обхватывала обоих полушарий" [9, с. 445]. Континентальная Европа сохранилась в памяти людей в качестве давно исчезнувшей, полулегендарной цивилизации, смысл существования которой историки пытаются разгадать с помощью полуистлевших манускриптов, написанных на забытых языках (в повести упоминается древний и еще не до конца расшифрованный немецкий язык).
В середине XIX века проблема будущего западной цивилизации и исторического предназначения России находилась в центре философских дискуссий, особенно известны споры западников и славянофилов по этим вопросам. Резкая критика западного общества со стороны славянофилов хорошо известна, однако и западники вовсе не были решительными сторонниками либеральных начал. Некритическое поклонение Западу присутствует только в сочинениях второстепенных публицистов, если же брать самых известных и глубоких представителей западничества, то у них мы находим примерно ту же логику, которую демонстрировал уже Чаадаев: признавая западную цивилизацию в качестве образца для любого народа, в том числе для России, они в качестве таковой рассматривали Западную Европу, создававшую на протяжении многих веков высокую религиозную культуру, а вовсе не либеральную Европу последних десятилетий, отрекшуюся от своих прежних высоких ценностей. Особенно наглядный пример такой оценки западной цивилизации дает книга А. И. Герцена "С того берега" (1850).
В молодости Герцен идеализировал Запад, считая его состояние в XIX веке непосредственным развитием культурных традиций прошлого и образцом для России. Но, прожив десять лет в Европе, он расстался с этими юношескими иллюзиями и вынес современной ему Европе суровый приговор: в ее будущем он видел только неуклонную деградацию, которая должна закончиться воцарением "варварства". В ранней работе "Письма об изучении природы" Герцен утверждал, что подлинной вершиной развития европейской цивилизации были XV–XVI века (эпоха, которую с конца XIX века стали называть Ренессансом), именно тогда Европа начала освобождение от сковывающего ее духовное развитие диктата католической церкви, а главной ценностью общества стало культурное творчество духовно развитых личностей. Однако католико-феодальная реакция победила, причем в борьбе против новой культуры, согласно Герцену, в равной степени участвовали и католицизм, и протестантизм: Лютер не менее яростно выступал против итальянских гуманистов, чем деятели католической реакции. Цели, вдохновлявшие идеологов Возрождения, не были реализованы, европейское сознание в эпоху Просвещения вернулось к средневековой модели личности, полностью подчиненной внешнему диктату: просветительское мировоззрение не в меньшей степени, чем католическое учение, лишало человека свободы, заменив волю Бога незыблемыми законами природы. Это возвращение в средневековье, к радикальному подавлению творческой свободы человека, привело к нарастающему кризису цивилизации. Его Герцен прямо связывает с господством материальных, внешних форм существования и с забвением абсолютного приоритета духовного начала в нас: "Все мельчает и вянет на истощенной почве – нету талантов, нету творчества, нету силы мысли,– нету силы воли; мир этот пережил эпоху своей славы, время Шиллера и Гёте прошло так же, как время Рафаэля и Буонарроти, как время Вольтера и Руссо, как время Мирабо и Дантона <...>" [2, т. 3, с. 285]. При этом одной из главных причин этого процесса Герцен называет распространение либеральной демократии: она устранила те несправедливости, которые были порождены многовековым господством католицизма и феодализма, но не породила ничего позитивного и в своем дальнейшем действии может привести только ко всеобщему разрушению: "Будущее, которое гибнет, не будущее. Демократия – по преимуществу настоящее; это борьба, отрицание иерархии, общественной неправды, развившейся в прошедшем; очистительный огонь, который сожжет отжившие формы и, разумеется, потухнет, когда сожигаемое кончится. Демократия не может ничего создать, это не ее дело, она будет нелепостию после смерти последнего врага; демократы только знают (говоря словами Кромвеля), чего не хотят; чего они хотят, они не знают" [2, т. 3, с. 305]. Как пророчит Герцен, от "смертного приговора" истории не уйдет "ни самодержавие петербургского царя, ни свобода мещанской республики" [2, т. 3, с. 312]. Процесс вырождения европейского человека и деградации культуры будет только усиливаться с течением времени: "...будущие поколения выродятся еще больше, еще больше обмелеют, обнищают умом и сердцем; им уже и наши дела будут недоступны и наши мысли будут непонятны. <...> Как аристократия, выродившаяся до болезненных кретинов, измельчавшая Европа изживет свою бедную жизнь в сумерках тупоумия, в вялых чувствах без убеждений, без изящных искусств, без мощной поэзии. Слабые, хилые, глупые поколения протянутся как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом и предаст забвению – летописей" [2, т. 3, с. 338–339].
Крах цивилизованной Европы сменится временем запустения и варварства, в результате на территорию, которая некогда была культурной Европой, придут другие народы и начнут строить новую цивилизацию, которая вряд ли будет помнить о старой. "Но страшно то, что отходящий мир оставляет не наследника, а беременною вдову. Между смертию одного и рождением другого утечет много воды, пройдет длинная ночь хаоса и запустения" [2, т. 3, с. 345]. В этом будущем и осуществится историческое предназначение России, которая именно в силу своего нынешнего "варварства" лучше переживет всеобщий крах цивилизации и сможет быстрее других начать движение в какое-то неведомое будущее, показывая путь остальным народам.
Как это ни странно, но представители западнического и либерального направления русской общественной мысли критиковали западную цивилизацию гораздо более капитально и обоснованно, чем славянофилы и консерваторы. Еще одним примером этого является творчество Б. Н. Чичерина, который на русской почве развивал либеральные принципы устройства общества, но в результате признал историческую обреченность классического западного либерализма.
Как констатирует Чичерин, главное положение классического либерализма – это признание отдельной человеческой личности первичным элементом по отношению к обществу. Эта первичность особенно наглядно проявляется в концепции возникновения человека, объясняющей развитие разума в процессе все более сложного, но сугубо индивидуального взаимодействия личности с природой, без какого-то существенного участия общества, а также в концепции договорного происхождения государства, изображающей его вторичными образованиями, возникающими в истории на основании сознательного согласованного решения разумных индивидов. Эти две концепции были чрезвычайно характерны для философии XVII–XVIII веков, но они были признаны безусловно ложными в известнейших (немецких) системах XIX века, доказавших, что разумный человек может возникнуть только под влиянием развитой общественной среды, т. е. общество и государство по своей сущности первичны в отношении отдельного индивида.
Чичерин безусловно согласен с немецкими мыслителями (прежде всего он имеет в виду Фихте и Гегеля). Ошибочность либеральной теории наглядно проявляется в "чисто умозрительном" понимании человека: природа человека берется "помимо всех жизненных условий, и сущностью этой природы полагается голое понятие об особи, принадлежащей к одному разряду с другими, т. е. о человеческом атоме" [18, с. 47–48]. Этот исходный пункт ведет к неправильной интерпретации главного понятия либерализма – понятия свободы, которая рассматривается как исключительно внешнее качество, как отсутствие ограничений в поведении. Но такое понимание приравнивает человека к животному, подлинная человеческая свобода – это свобода внутренняя, духовная, и проявляется она в творчестве, в созидании объектов культуры. Кроме того, она определяется обществом и его коллективной и целостной духовной сущностью, которую нужно признать абсолютно первичной по отношению к сознанию отдельного индивида. В этой связи Чичерин признает ложной основополагающую концепцию западного либерализма – теорию общественного договора, объясняющую государство через соединение отдельных сознательных индивидов.
Самое опасное следствие идеи общественного договора – это признание возможности для отдельных личностей "расторгнуть" упомянутый договор при его нарушении властями; это означает законное право на революцию. Как констатирует Чичерин, поскольку зафиксировать с достаточной долей объективности "нарушение" властью условий общественного договора невозможно, власть и все государство постоянно находятся под угрозой, поскольку небольшая, но хорошо организованная группа активистов в любой момент может спровоцировать смену власти, несмотря даже на то, что для этого нет объективных причин. "Хотя Локк уверяет, что народ берется за оружие лишь тогда, когда злоупотребления продолжительны и касаются большинства, но в неустроенной массе кто может судить о большинстве или меньшинстве? Немногочисленная, но ярая партия всегда готова выдать свои требования за волю большинства и подать сигнал к возмущению" [18, с. 64]. Анализируя воззрения Дж. Локка, самого известного теоретика классического либерализма, Чичерин констатирует, что он основное внимание обращает на обоснование возможности устранения негодных правителей. Это, согласно Чичерину, приводит к сугубо революционным выводам: "Все те оговорки и ограничения, которые установлялись прежде, исчезают, и в конце концов является верховная сила неорганизованной массы. Это право восстания в самой анархической форме" [18, с. 64]. Классический западный либерализм оказывается не столько теорией устойчивого государства, сколько теорией перманентной революции.
Этот вывод был достаточно хорошо понят либеральными теоретиками, но решить проблему устойчивости государства естественным образом они не могли, в силу отсутствия в их учении принципа органического, внутреннего единства общества. Единственным выходом здесь становится внешнее принуждение к единству. Как пишет по этому поводу Чичерин, "приходится видеть в рабстве условие свободы" [18, с. 231]. Это означает, что либеральное государство в своем генезисе неизбежно превращается в откровенную тиранию. Генезис западного либерального государства в ХХ веке наглядно подтверждает правоту этого вывода; в наши дни западное либеральное общество стремительно трансформируется в самую изощренную форму тоталитаризма, полного контроля над мыслями и поведением граждан [4].
Традиция резкой критики западного либерализма, заданная Чичериным, была продолжена в общественно-политической мысли начала ХХ века. Многие из известных русских философов этой эпохи в юности пережили увлечение марксизмом, а потом либерализмом, наглядный пример здесь дают творчество и общественная деятельность П. Б. Струве и С. Л. Франка, оба начинали как яркие теоретики марксизма, затем приняли активное участие в организации первой либеральной партии – Конституционно-демократической партии, но в эмиграции оба стали критиками либерализма и защитниками своего рода "духовной аристократии" как единственной разумной формы организации общества и государства. Тот же путь проделали и другие известные фигуры, которых можно с разной степенью условности отнести к движению русского либерализма: П. Новгородцев, Е. Трубецкой, И. Ильин и др. Однако для этих мыслителей выработка новой позитивной модели общественного развития представлялась более важной задачей, чем критика ложных моделей (марксизма, фашизма и либерализма), поэтому здесь мы должны перейти ко второму и главному слагаемому русской идеи.
2
В 1849 году в Париже на французском языке без указания имени автора был опубликован небольшой трактат "Россия и Революция", который был написан Ф. И. Тютчевым. Главная мысль этого произведения состояла в том, что в Европе борются между собой две влиятельные силы, которые названы в заглавии работы. "Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества" [12, с. 53]. Противостояние этих сил Тютчев объясняет тем, что "Россия – христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному", в то время как Революцию ведет и оживляет "именно антихристианское начало, дающее ей также (нельзя не признать) столь грозную власть над миром" [12, с. 53]. Более конкретный политический смысл термина "Революция" в трактате Тютчева был очевиден: это дух Просвещения и вызванные им преобразования, приведшие к возникновению общества либерального типа. В этом смысле вполне понятно, что Россия, понятая как единственная альтернатива Революции, осознается Тютчевым как великая империя, призванная быть окончательной всемирной империей. Соответственно, спасти Европу Россия может, только приняв ее в свое имперское лоно: "И когда над столь громадным крушением мы видим еще более громадную Империю, всплывающую подобно Святому Ковчегу, кто дерзнет сомневаться в ее призвании, и нам ли, ее детям, проявлять неверие и малодушие?.." [12, с. 62]. В самом трактате, написанном для европейцев, Тютчев прямо не говорит о "вхождении" Европы в Российскую империю, но в рукописных набросках к незавершенному трактату "Россия и Запад" этот тезис присутствует: "...поглощение Австрии есть не только необходимое пополнение России как славянской Империи, но еще и подчинение ей Германии и Италии, двух стран Империи" [12, с. 95].
Этим рассуждениям можно было бы не придавать существенного значения, если бы они принадлежали какому-нибудь представителю националистического славянофильства, наподобие Н. Я. Данилевского, однако Тютчева трудно заподозрить в плохом знании Европы и нелюбви к ней; нужно вспомнить, что он большую часть жизни прожил в Германии и считал себя не меньше европейцем, чем русским. Разрешить возникающий здесь парадокс помогает точка зрения В. К. Кантора, который показывает, что мировоззрение Тютчева построено на одной главной ценности, которая дает основание всем остальным – на идее высокой европейской культуры: "Не имперскость, а искусство, мысль, культура, до которой доработалась Россия, есть ее право на существование в веках – не меньшее, чем было у Римской империи <...>. Тютчев безусловно увязывал бытие Империи с развитием в России высокого европейского духа" [7, с. 282–283]. Тютчев в своем пророчестве о Европе имел в виду не конкретную Российскую империю XIX века, а ее грядущую и ожидаемую форму – империю культуры или духовную империю, в которой главной ценностью должно стать созидание высокой культуры.
Такое понимание грядущего идеала всемирной империи во главе с Россией не было изобретением Тютчева, скорее всего он позаимствовал его у И. Г. Фихте, который в известнейшей поздней работе "Основные черты современной эпохи" (1806) именно культуру выдвигал в качестве единственно эффективного основания единства Европы, а в перспективе и всего мира. Фихте подчеркивал значение Римской империи как первой государственной формы такого типа, от которой идет все дальнейшее развитие замысла единого духовно развитого человечества. "Именно римляне были тем народом, который снова объединил в одном государстве всю созданную слиянием народов культуру, завершив таким образом всю древнюю историю и замкнув несложный процесс предшествовавшего распространения культуры" [14, с. 195]. Фихте был историческим оптимистом и современную ему Европу рассматривал как законную наследницу Древнего Рима, как царство культуры, которое является основанием грядущего всемирного государства культуры. Фихте предполагал, что центром этого всемирного государства должна стать Германия, как авангард культурного развития Европы. Вероятно, в начале XIX века эта точка зрения могла быть оправдана, но уже в середине века стало понятно, что немцы потеряли свое значение великой культурной нации и что эта роль переходит к России.
Кому-то невозможно представлять себе русскую идею простым "переводом" на русский язык "немецкой идеи", идеи культурного предназначения немецкой нации. Однако на деле, с какой бы нацией ни связывать эту идею, она по своей сути должна быть идеей всемирной, хотя в ней и должен быть обозначен тот народ, который сумеет выдержать свое всемирно-историческое, а не сугубо национальное предназначение. Фихте совершенно правильно определил смысл этой идеи, но он ошибся, уверовав в то, что именно немцы реализуют эту идею, исполнят предназначение, предписанное им историей с эпохи Возрождения (это предназначение было явно обозначено в традиции великой немецкой мистической философии – от Мейстера Экхарта и Николая Кузанского до Готфрида Лейбница и Иоганна Фихте). К сожалению, немецкая нация в конце концов выбрала в качестве главной ценности своего развития совсем не культуру, и это привело ее, уже в ХХ веке, к полному краху вместе со всей Европой, точно так же забывшей о своей великой культурной миссии. Эта миссия оказалась делом России; в ее понимании русские мыслители демонстрировали не меньшее единодушие, чем в констатации краха Европы, хотя увидеть это единодушие оказывается гораздо более трудной задачей.
В 1851 году в Германии на немецком языке выходит книга Герцена "О развитии революционных идей в России", которая кажется написанной как ответ на упомянутую выше работу Тютчева. Как и Тютчев, Герцен констатирует радикальное противостояние Европы и России, как и Тютчев, он пишет о грядущем крахе Европы и о том, что Россия призвана стать центром новой плодотворной цивилизации, которая возникнет на "развалинах" старой Европы. Но путь к этой цивилизации Герцен видит не через всемирную Империю, а через всемирную Революцию. Кажется, что это прямо противоположно главной мысли Тютчева, однако, если мы более внимательно вглядимся в тот смысл, который Герцен вкладывает в понятие Революции, мы обнаружим больше сходства, чем различий. В истории России Герцен выделяет две противоположные тенденции исторического развития – негативную и позитивную: первую он связывает с византийским влиянием и монгольским игом, с господством фанатичной православной веры и тиранической власти, в равной степени подавляющих культурное творчество; исток второй, направленной на созидание культуры, находит в псковской и новгородской общинных республиках и во внутренней духовной свободе, присущей русскому народу. Хотя в истории победила первая традиция, Герцен верит, что именно в России уже началась та всемирная Революция, смысл которой в раскрепощении творческих сил всех людей и превращения сначала России, а потом и Европы в совершенно новые общественные структуры, смысл бытия которых заключен в культурном творчестве.
Главный парадокс взглядов Герцена заключается в том, что он решительно отрицает какую-либо связь начавшейся всемирной Революции с реальным революционным движением, возникшим в России в середине XIX века, он дает последнему весьма нелестную характеристику и не видит в нем никакой значимой исторической перспективы: "Замечено, что у оппозиции, которая открыто борется с правительством, всегда есть что-то от его характера, но в обратном смысле. И я уверен, что существует известное основание для страха, который начинает испытывать русское правительство перед коммунизмом: коммунизм – это русское самодержавие наоборот" [2, т. 3, с. 502].
Началом подлинной Революции, которая радикально изменит весь мир, Герцен называет царствование Петра I, именно за то, что Петр открыл Россию европейской культуре и позволил стать главной культурной страной Европы [2, т. 3, с. 409]. И совершенно не случайно естественным продолжением Революции после Петра в книге Герцена изображается развитие русской литературы в конце XVIII – первой половине XIX века. В результате оказывается, что для Герцена совершенно не важна конкретная политическая форма общества, самое главное, чтобы оно стимулировало творческие потенции людей, поддерживало развитие высокой культуры. Парадоксальным образом Герцен склоняется в конце концов к идее империи, а не к идее республики, ведь либеральную ("мещанскую") идеологию новых европейских государств он признавал глубоко враждебной культуре и считал образцом правителя и человека Петра I: "...Что можно сделать для России, будучи на стороне императора? Времена Петра, великого царя, прошли; Петра, великого человека, уже нет в Зимнем дворце, он в нас" [2, т. 3, с. 497]. В связи с этим общественный идеал Герцена наиболее правильно было бы определить тем же термином империя культуры, или духовная империя, который выше был применен к взглядам Тютчева и который происходит из исторической концепции Фихте.
Неожиданное и парадоксальное сходство взглядов Тютчева и Герцена на предназначение России не осталось незамеченным последующими мыслителями: мы находим, по сути, окончательное воплощение русской идеи – именно в форме синтеза идей Тютчева и Герцена – в творчестве Ф. М. Достоевского; наиболее явно этот синтез осуществлен в концепции "русского европейца", которую излагает Версилов в романе "Подросток".
Прежде всего, Достоевский через Версилова в очередной раз констатирует "закат" Европы (этот образ появляется в рассказе Версилова о своем путешествии по Германии в эпоху Франко-прусской войны, и не исключено, что именно из романа Достоевского его перенес в заглавие своего известного труда О. Шпенглер). По словам Версилова, европейцы перестали быть собственно европейцами и превратились в меркантильных немцев, французов, англичан и т. д., борющихся "за право на кусок", т. е. за материальные блага. Достоевский повторяет приведенную выше мысль Фихте о том, что глубокой и плодотворной сущностью Европы является высокая культура; но для него уже ясно, что европейцы утратили понимание своей исторической миссии и поэтому утратили свою европейскую сущность. Теперь этой сущностью обладает только Россия, которая и есть отныне подлинная Европа, понятая как царство культуры. Версилов выражает этот итог, обозначая себя, т. е. русского европейца, подлинным европейцем: "Тогда во всей Европе не было ни одного европейца! <...> один я, как русский, был тогда в Европе единственным европейцем. <...> Один лишь русский, даже в наше время, т. е. гораздо раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет – как нигде. Я во Франции – француз, с немцем – немец, с древним греком – грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я – настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль" [3, т. 13, с. 377].
Это загадочное суждение становится ясным, если увидеть в нем выражение все той же идеи Фихте о том, что подлинной сущностью Европы является создание высокой культуры. Ведь только культура может стать окончательным и универсальным основанием единства человечества, поэтому именно наличие у русских способности воспринимать культуру самых разных народов и синтезировать в собственном культурном творчестве является доказательством их грядущей роли в качестве центра общечеловеческого единства. Версилов обозначает эту способность термином "всепримирение идей", позже Достоевский уже от собственного имени подробно опишет ее в Пушкинской речи, где она будет названа "всемирной отзывчивостью" русской души и представлена в качестве главной особенности творчества Пушкина [5]. Очень показательно появление "древнего грека", наряду с современными европейскими народами, в приведенном высказывании Версилова, Достоевский явно указывает, что именно культура и ее вековые традиции, а не что-то иное (например, христианство или какие-то достижения современной эпохи) является основанием европейского единства и сутью европейской судьбы. Теперь это стало исторической судьбой России, поскольку только она является подлинно творческим и живым воплощением европейской культуры, в то время как сама Европа уже утратила даже понимание собственного культурного наследия. Эту мысль Версилов выражает в известном поэтичном суждении: "Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их – мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями..." [3, т. 13, с. 377].
В размышлениях Версилова очень ясно выражена и мысль о том, что грядущая Россия, ставшая культурным авангардом Европы и всего мира, по своему общественно-политическому устройству должна быть империей культуры, основанной на лидирующей роли духовной аристократии, небольшой группы духовно развитых людей. Версилов причисляет себя к этой небольшой группе ("тысяче") и прямо утверждает, что именно эти люди выражают историческое предназначение России. "У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, – тип всемирного боления за всех. Это – тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча человек – может, более, может, менее, – но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу" [3, т. 13, с. 376].
Таким образом, Достоевский очень ясно и всесторонне выразил смысл исторического предназначения России, смысл русской идеи, как ее понимали практически все значимые русские мыслители, начиная с Одоевского. С некоторыми оговорками этот же смысл можно обнаружить и в историософских представлениях двух виднейших представителей русской философии конца XIX века – Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева.
Известный толстовский "анархизм", безвластная организация совершенных людей на основе любви, является своеобразной версией концепции "духовной империи", о которой говорилось выше, при этом, как и Герцен, Толстой убежден, что переход к новой цивилизации, основанной на ценностях духовного развития и культуры, должен произойти в результате некоего "великого переворота", своего рода "религиозной революции", которая радикально изменит личное и общественное бытие людей. "Думаю, что теперь, именно теперь, – пишет Толстой, – начал совершаться тот великий переворот, который готовился почти 2000 лет во всем христианском мире, переворот, состоящий в замене извращенного христианства и основанной на нем власти одних людей и рабства других – истинным христианством и основанным на нем признанием равенства всех людей и истинной, свойственной разумным существам свободой всех людей" [13, т. 36, с. 232]. Начало этому перевороту должна положить Россия.
Соловьев наиболее ясно признал себя наследником Достоевского (особенно в понимании судьбы России) в "Трех речах в память Достоевского". Здесь он тоже говорит о грядущей "религиозной революции", которая должна заменить искаженное и ограниченное "храмовое" христианство христианством "вселенским", преобразующим жизнь людей к единству и совершенству. Это обновленное истинное христианство он представлял как синтез трех христианских конфессий. Но одного религиозного обновления мало, Соловьев утверждал, что новая эпоха в истории человечества должна начаться вместе с обновлением Российской империи, которая должна стать основой грядущей всемирной теократии, всемирной империи, организованной не на принципе обычной земной власти (насилия), а на принципе духовного, религиозного единства людей ("царской власти Христа", по выражению Соловьева). "Русская империя, отъединенная в своем абсолютизме, есть лишь угроза борьбы и бесконечных войн. Русская империя, пожелавшая служить Вселенской Церкви и делу общественной организации, взять их под свой покров, внесет в семейство народов мир и благословение" [11, с. 179]. Все это находится в полном согласии с размышлениями предшественников Соловьева, хотя у него, как и у Толстого, на первый план выходит религиозное преображение человечества, а не собственно ценность культуры.
Мыслители начала ХХ века продолжили эту традицию. Особенно много об истории человечества и об историческом предназначении России писали Н. А. Бердяев и С. Л. Франк. Франк в своем капитальном труде "Духовные основы общества" (1930) дал наиболее детальное философское обоснование идее духовной империи как такой организации общества, в которой правят "лучшие", духовно развитые люди. "Творчество и строительство в коллективной жизни людей есть необходимо водительство одних и послушание других, их следование примеру и призыву лучших. <...> Человек призван делать не то, что он хочет, а что по существу хорошо, что должно быть; но именно поэтому лучшие, более сведущие и умелые должны руководить худшими" [15, с. 121]. Такое устройство общества Франк обосновывает тем, что человек не самостоятелен в своем бытии и должен понимать свободу как реализацию своего высшего, божественного предназначения. "Человек есть всегда не самодержавный творец и демиург своего бытия, и общественное бытие есть всегда больше, чем имманентное выражение чисто человеческих (в позитивно-натуральном смысле) страстей и субъективных стремлений; человек на всех стадиях своего бытия, во всех исторических формах своего существования есть как бы медиум, проводник высших начал и ценностей, которым он служит и которые он воплощает, – правда, медиум не пассивный, а активно соучаствующий в творческом осуществлении этих начал" [15, с. 75]. Это принципиальное положение означает, что грядущая общечеловеческая духовная империя должна иметь в качестве идейного основания новую религиозность, открывающую каждой личности указанную зависимость от "высших начал и ценностей". Очень характерно, что Франк здесь не говорит прямо о Боге, чтобы не возникло впечатления, что он имеет в виду традиционную церковную религиозность.
Еще большее значение особой религиозности русского народа, не только не совпадающей с церковным православием, но и резко оппозиционной в отношении него, придает Бердяев; здесь необходимо перейти к третьему слагаемому русской идеи.
3
Рассматривая в своих поздних работах "Истоки и смысл русского коммунизма" и "Русская идея" развитие русской религиозности, Бердяев высказывает парадоксальное утверждение, что русский нигилизм и связанный с ним русский атеизм имели религиозные истоки и дают важную характеристику русских религиозных исканий. "В русском атеизме были мотивы, родственные Маркиону. <...> Русский нигилизм отрицал Бога, дух, душу, нормы и высшие ценности. И тем не менее нигилизм нужно признать религиозным феноменом. Возник он на духовной почве православия, он мог возникнуть лишь в душе, получившей православную формацию. Это есть вывернутая наизнанку православная аскеза, безблагодатная аскеза. В основе русского нигилизма, взятого в чистоте и глубине, лежит православное мироотрицание, ощущение мира, лежащего во зле, признание греховности всякого богатства и роскоши жизни, всякого творческого избытка в искусстве, в мысли" [1, с. 35, 37]. Главным пунктом религиозного учения Маркиона, первого и известнейшего христианского гностика, было противопоставление высшего благого Бога-Отца и низшего Бога-Демиурга, творца нашего мира, который является злым богом, дьяволом. Смысл учения Христа Маркион видел в разоблачении лжи, с помощью которой Демиург заставлял людей покоряться его велениям, верить в то, что именно он является высшим благим богом. В центре системы лжи, созданной Демиургом, находится, согласно Маркиону, иудаизм и внутренне связанное с ним ортодоксальное, церковное христианство, которое, радикально искажая исходное учение Христа, пытается представить его в качестве "сына" и защитника Демиурга. Присутствие в русском общественном сознании такого резко негативного мифологического образа церкви помогает хотя бы частично объяснить ту невероятную жестокость, которую во время большевистской революции и Гражданской войны проявляли в отношении ее служителей не только деятели революции, но и простой народ.
В гностическом учении русская душа не только находила разоблачение Демиурга и его служителей на земле, но также видела откровение об истинном благом Боге, которого нужно найти в глубине собственной души и сделать действенной силой личности, преображающей ее бытие и бытие окружающего мира. Не столько Бог, сколько человеческая личность и ее бесконечная, непостижимая божественная сущность является главной темой русской религиозности. Таким образом, ни отрицание Бога (Демиурга), ни нигилизм (отрицание законов, на которых построен мир зла), ни желание революции (низвержения государства и церкви как пособников бога зла) не являются свидетельствами отсутствия в русском мировоззрении религиозного измерения, напротив, они очень ясно характеризуют его смысл [6].
Понять особенности русской религиозности в сравнении с традиционной христианской (католической и православной) религиозностью невозможно, если не иметь в виду, что, согласно современным представлениям, христианство в истории существовало в двух очень разных версиях – в виде ортодоксальной и гностической традиций, ортодоксального и гностического христианства. Церковь (ортодоксальная традиция) утверждала и утверждает, что только она являлась продолжением и развитием в истории первоначального учения Иисуса Христа, а все остальные его версии являются злостными искажениями, ересями. Современный научный подход к истории христианства признает эту точку зрения ложной [19]; на самом деле уже в середине II века христианство разделилось на два направления, причем гностическая традиция была в гораздо большем соответствии с учением Христа и поэтому была более популярной и массовой; только после превращения ортодоксального христианства в государственную религию Римской империи, а ортодоксальной церкви – в государственный институт ее господство стало абсолютным и привело к уничтожению ее идейных противников, объявленных еретиками.
В русской культуре глубокое осознание ложности официального православия присутствовало уже с самых первых веков христианской истории, именно поэтому такое большое значение в духовном развитии России имели различные ереси, имеющие один и тот же гностический, исток. С начала XIX века главным смыслом религиозного слагаемого русской философии было искание истинного христианства, резко отличающегося от официального церковного православия.
Ясный исток этой тенденции мы снова находим у Чаадаева. Он указывает на Платона как родоначальника идеи о присутствии в сознании человека "воспоминания" о "какой-то лучшей жизни", т. е. о райском, божественном бытии, но дальше Чаадаев возражает Платону (и церковному христианству), который признает возможность возвращения к этой лучшей жизни только после смерти; он утверждает, что "утраченное и столь прекрасное существование может быть нами вновь обретено, что это всецело зависит от нас и не требует выхода из мира, который нас окружает" (курсив мой – И. Е.) [17, с. 361]. Чаадаев категорически отвергает христианство, основанное на "букве" и на "книге" (на составленном церковью Новом Завете), сущность учения Христа он видит в полном повторении образа жизни Христа, в буквальном явлении в каждом человеке Бога: "Он хотел сказать, что после него явятся люди, которые так вникнут в созерцание и изучение его совершенств, которые так будут преисполнены его учением и примером его жизни, что нравственно они составят с ним одно целое; что эти люди, следуя друг за другом из поколения в поколение, будут передавать из рук в руки всю его мысль, все его существо: вот что он хотел сказать и вот именно то, чего не понимают" [17, с. 438]. Здесь снова можно увидеть влияние немецкой философии и особенно позднего учения Фихте на Чаадаева: Фихте в работе "Наставление к блаженной жизни" (1806) утверждал, что Иисус Христос – это просто первый человек, который продемонстрировал возможность выявления в себе полноты божественной сущности, присущей каждому, поэтому задача каждого, понявшего учение Христа, – совершить то же самое, стать точно таким же, как Христос, явлением Божественного начала.
Этот радикальный принцип истинного (гностического) христианства, ясно обозначенный Фихте, присутствует и в воззрениях Хомякова; он, подобно другим великим русским мыслителям, по сути, отрицает миф о грехопадении и идею неискоренимой греховности человека и однозначно разделяет фихтевский принцип тождества Бога и человека: "Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его; ибо Бог, Христос, Церковь живут в нем жизнью более действительною, чем сердце, бьющееся в груди его, или кровь, текущая в его жилах; но живут, поколику он сам живет вселенскою жизнью любви и единства, т. е. жизнью Церкви" (курсив мой – И. Е.) [16, с. 192].
Наиболее ясно смысл истинного христианства, которое искала русская философия, выразил Достоевский. В одном из последних написанных им текстов, в комментарии к собственной Пушкинской речи (в "Дневнике писателя" за 1880 год), полемизируя с А. Д. Градовским, Достоевский, по сути, отвергает православие в качестве истинной религии, поскольку видит вокруг только очень малое число "настоящих христиан", и смысл настоящего христианства сводит к "идее личного абсолютного самосовершенствования впереди, в идеале" (курсив мой – И. Е.) [3, т. 26, с. 164]. Эта мысль развивает известное понимание Христа из рукописного наброска 1864 года, где писатель определяет его как явление "идеала человека во плоти" (курсив Достоевского – И. Е.) [3, т. 20, с. 172]. Можно заметить, что то же самое фихтевское истинное христианство выступает в качестве прообраза верований Достоевского и в описании высшего смысла христианства в рукописном наброске к "Дневнику писателя" за 1877 год: "Христианство является доказательством того, что в человеке может вместиться Бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть" [3, т. 25, с. 228].
В полном согласии с этим тезисом, общим для величайших немецких и русских философов, развивали свои представления о грядущем истинном христианстве Толстой и Соловьев. Несмотря на распространенное мнение (исходящее из православных кругов) о существенном различии религиозных воззрений Толстого и Соловьева, два великих русских мыслителя абсолютно одинаково видели смысл истинного христианства, которое в будущем должно заменить ложное церковное христианство. Оба принимали две главные идеи, обозначающие отличие истинного христианства от его ложной исторической версии: во-первых, отрицание греховности человека и, как следствие, признание непосредственного единства-тождества человека и Бога и, во-вторых, признание возможности построения Царства Божьего на земле (с одновременным отрицанием Царства Небесного как посмертной перспективы для человека). Вот как эти идеи выражает Соловьев: "Сущность истинного христианства есть перерождение человечества и мира в духе Христовом, превращение мирского царства в Царство Божье (которое не от мира сего). Это перерождение есть сложный и долгий процесс <...>. Но разумеется, христианское перерождение человечества не может быть только естественным процессом, не может совершаться само собой, путем бессознательных движений и перемен. Это перерождение есть процесс духовный <...>; в нем должно непременно участвовать само человечество своими собственными силами и своим сознанием" [10, с. 339]. То же самое говорит Толстой: "Все учение Христа состоит в том, чтобы дать Царство Бога – мир людям. <...> Стоит людям поверить учению Христа и исполнять его, и мир будет на земле, и мир не такой, какой устраивается людьми, временный, случайный, но мир общий, ненарушимый, вечный" [13, т. 23, с. 370]. Толстой в наиболее ясной и радикальной форме выразил принцип тождества Бога и человека, он неоднократно определяет человека как "разделившегося Бога" и как "Бесконечное Начало, проявляющееся в ограниченных пределах" [13, т. 55, с. 28]; одно из его определений христианства, содержащееся в дневниковой записи от 17 мая 1896 года, буквально повторяет приведенное выше определение Достоевского: "...хр[истианское] учение открывает человеку то, что сущность его жизни есть не его отд[ельное] существо, а Бог, заключенный в этом существе. Бог же этот сознается человеком разумом и любовью" [13, т. 53, с. 89].
Мыслители начала ХХ века продолжили разработку идеи о необходимости замены исторического, церковного христианства истинным христианством, которое будет стимулировать развитие высокой культуры, а не препятствовать ему, как это было в предшествующей истории. Более того, они попытались практически реализовать эту задачу, что нашло отражение в Религиозно-философских собраниях 1901–1903 годов, в движении "нового религиозного сознания", в идее "религии Св. Духа" Д. С. Мережковского и во многих других проявлениях культуры Серебряного века. Однако революция прервала все эти искания, хотя и в ней, если вспомнить работы Бердяева, проявился все тот же дух истинного христианства, только в предельно искаженном и рационализированном виде.
Подводя итог, можно еще раз констатировать, что русская философия дала достаточно подробное и ясное выражение русской идеи, нам нужно только правильно осмыслить ее и попытаться реализовать содержащиеся в ней цели и рекомендации на новом историческом этапе. Ясное осознание уже обретенных истин поможет не обольщаться очевидно ложными направлениями развития, к числу которых принадлежит "евразийство", активно продвигаемое многими современными интеллектуалами. Главный смысл русской идеи заключается в понимании того, что Россия призвана реализовать в истории окончательную форму великой европейской культуры, в том числе спасти и включить в себя традиционную Европу, если она пожелает вернуться к собственным цивилизационным истокам. Те, кто утверждает, что Россия должна синтезировать достижения Европы и достижения Азии, должны ясно указать, что за "достижения" Азии, сопоставимые с достижениями Европы, мы должны усвоить и развить в себе. Высокая культура, понимаемая как абсолютная и, по сути, единственная цель для исторического развития общества, является уникальным достоянием Европы, ее не существует в таком виде в Азии. В Азии мы вообще не найдем ничего, достойного и равного этой ценности; более того, Азия сама постепенно осознает необходимость принять эту ценность, т. е. в определенном смысле "подчиниться" Европе. В современную эпоху культурное развитие народов Азии происходит через принятие высокой европейской культуры, через использование ее универсальных форм для развития собственных национальных традиций. Евразийство способно породить какие-то цельные концепции только при отрицании абсолютной ценности культуры, в рамках чисто биологизаторского подхода к человеку и обществу; именно на этом пути была создана самая известная концепция этого типа – теория Л. Н. Гумилева, точно такой же характер имеет близкая к евразийству концепция Н. Я. Данилевского. Если мы видим в человеке существо, возвышающееся над животным миром, и признаем создание культуры его важнейшим делом, мы должны признать безусловно ложным этот путь понимания грядущей российской и всемирной цивилизации.
Список литературы
1. Бердяев, Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. – Париж: YMCA-Press, 1955.
2. Герцен, А. И. Собрание сочинений. В 9 т. – М.: Художественная литература, 1955–1961.
3. Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Л.: Наука, 1972–1991.
4. Евлампиев, И. И. "Закат западного мира" и его метафизические и исторические причины // Вопросы философии. 2019. № 11. С. 45–55.
5. Евлампиев, И. И. О смысле "русской идеи" в позднем творчестве Ф. Достоевского ("Подросток", "Дневник писателя") // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 21. СПб.: Нестор-история, 2016. С. 92–107.
6. Евлампиев, И. И. Русская религиозность между эсхатологией и революцией // Вече. Ежегодник русской философии и культуры – 2021. СПб.: С.-Петербургское философское общество, 2022. – С. 6–24.
7. Кантор, В. К. Санкт-Петербург. Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в России. М.: РОССПЭН, 2008.
8. Одоевский, В. Ф. Русские ночи. – М.: Наука, 1975.
9. Одоевский, В. Ф. 4338-й год // Одоевский В.Ф. Повести и рассказы. – М.: Художественная литература, 1959. – С. 416–448.
10. Соловьев, В. С. Об упадке средневекового миросозерцания // Соловьев В. С. Сочинения. В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. – С. 339–350.
11. Соловьев, В. С. Русская идея // Соловьев В. С. О христианском единстве. М.: Рудомино, 1994. С. 161–179.
12. Тютчев, Ф. И. Россия и Запад. – М.: Культурная революция, 2007.
13. Толстой, Л. Н. Полное собрание сочинений. В 90 т. – М.: Художественная литература, 1928–1958.
14. Фихте, И. Г. Основные черты современной эпохи // Фихте И. Г. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение. – Минск: Харвест, 2000. – С. 4–272.
15. Франк, С. Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992.
16. Хомяков, Л. С. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г. Лоранси // Хомяков А. С. Сочинения. Т. 2. Работы по богословию. – М.: Московский философский фонд, 1994. – С. 25–71.
17. Чаадаев, П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2 т. – М.: Наука, 1991. Т. 1. – С. 320–440.
18. Чичерин, Б. Н. История политических учений. Т. 2. – СПб.: Изд-во РХГА, 2008.
19. Ehrman, B. D. The Orthodox Corruption of Scripture: The Effects of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament. New York: Oxford University Press, 1993.